Первая улыбка, направленная не наружу, а внутрь, будто вспышка под закрытыми веками. В этот мгновенный импульс ребёнок узнаёт: ощущение тепла принадлежит телу, а тело — ему. Я вижу, как крошечный кулак задерживается возле щёки, словно спутник возле родной планеты. Самоощущение получает первую границу.
Сенситивные коридоры
В первые месяцы наблюдается особый ритм: фазы «расплавленного» сознания чередуются с фазами кристаллизации. Нейробиологи называют это феноменом «деферентной схемы» — временного коридора, где афферентные сигналы совпадают с моторными. Во время кристаллизации взгляд ребёнка фиксируется, дыхание выравнивается, а префронтальная кора словно ставит печать: «я» отделено от хаоса стимулов. Каждый такой акт самоформирования напоминает краткий визит в мастерскую, где подгоняется новый доспех ощущений.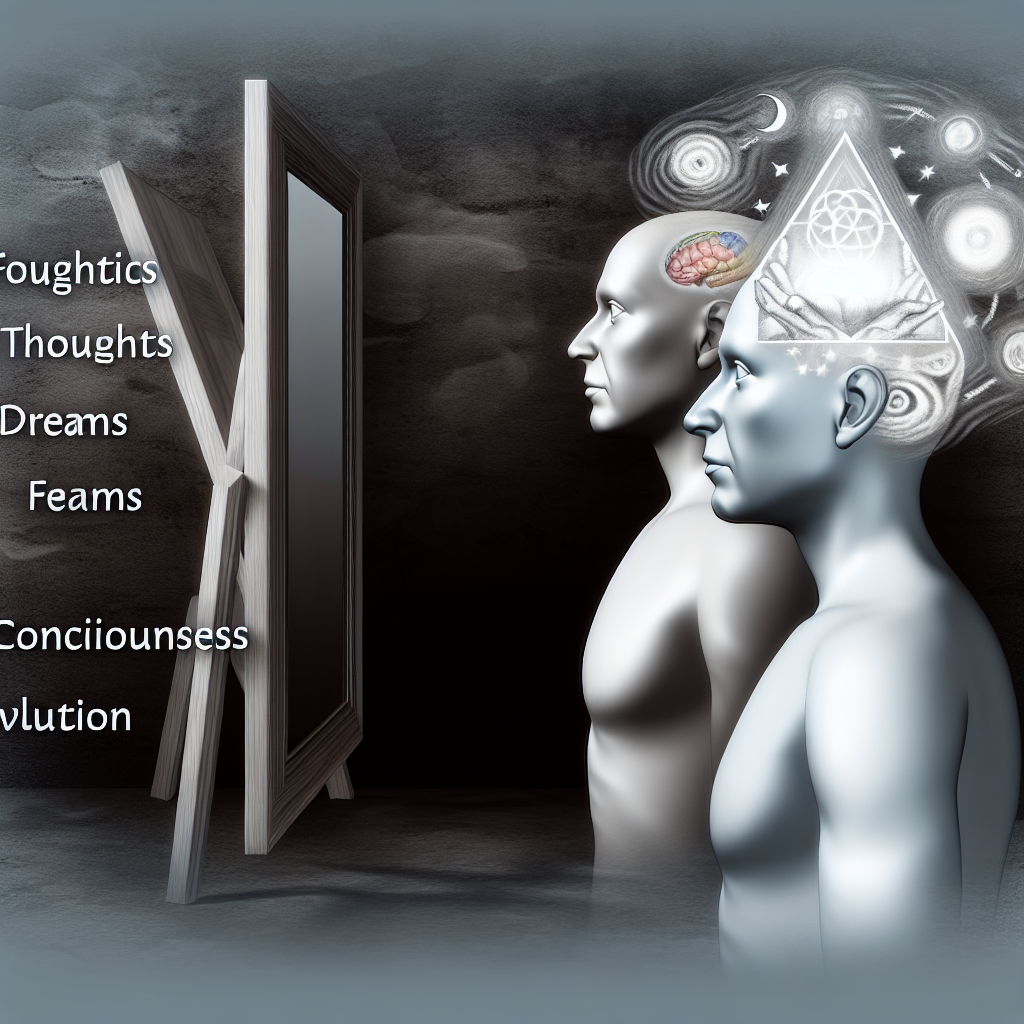
Когда ребёнок прикасается к поверхности стула и одновременно наблюдает движение пальцев, формируется «эксцентрированная репрезентация» — умение смотреть на собственное действие как наблюдатель. Этот навык позднее станет прологом к внутреннему диалогу и моральной оценке поступков.
Точки отсчёта
Примерно к восемнадцатому месяцу зрительный анализатор сочетается с проприоцептивной информацией так тесно, что возникает феномен зеркального самораспознания. Сначала малыш тянет руку к отражённому пятну на носу, после — к реальному. Я называю данный эпизод «петлёй Орубороса»: психика обвивает физическую форму и снова возвращается к себе, уже держа в руках символическую нить. Этот момент сигнализирует: структура «я—другой» закрепилась, а консциентное ядро вышло из кокона.
Тем же периодом формируется телесная карта с аксиальной ориентацией «вверх—вниз» и «право—лево». Без этой координатной сетки ребёнок воспринимает пространство как бесконечную равнину. Как только сетка стабилизируется, мельчайшее движение пальца наполняется предсказуемостью, а внешняя точка зрения обретает смысл.
Вербализация опыта
Следующий виток запускает язык. Лексема «я» звучит, подобно камертону, который настраивает весь оркестр высших функций. До этого этапа речь напоминала дым без костра: сигналы уходили, не закрепляясь в памяти. С появлением «я» звуки сцепляются, образуя цепочки, куда включается модус времени. Форма прошедшего и будущего отражает способность переносить себя сквозь хронологию.
Взрослый партнёр диалога выполняет роль перископа. Когда малыш говорит: «Упал», я добавляю: «Ты упал и поднялся». Такое зеркалирование складывает ленту Мёбиуса, где внешнее описание плавно переходит во внутреннее ощущение собственной активности.
В моей практике встречались случаи, где длительная сенсорная депривация тормозила процесс. После обогащения среды (тактильные дорожки, лампы с медленным мерцанием, ритмическое катание) ребёнок улавливал внутренний импульс, словно услышал давно ожидаемый зов.
Растущее самосознание время от времени вступает в «экзистенциальный кризалис» — короткий период, когда границы «я» вновь размываются: страх темноты, первые свидетельства вины, тревога разлуки. Эти шторма закрывают старые гештальты, перед тем как открыть новые. Поддержка строится на трёх китах: предсказуемое расписание, мягкое телесное касание, совместное называние эмоций.
Каждый такой штурм напоминает ливень над юным побегом. Листья дрожат, однако капли насыщают почву. Через ливень побег переходит в фазу стебля, а позднее выводит бутон самооценки.
Финальный аккорд раннего цикла звучит около шести лет. Ребёнок способен удерживать метафору в сознании, планировать сюжет игры, обсуждать смысл правил. Самосознание выходит из зазеркалья, встаёт на собственные ноги и смотрит на мир без отражений. Я наблюдаю, улыбаюсь и мысленно шепчу: «Добро пожаловать, другой, похожий на меня, — ты нашёл себя».




